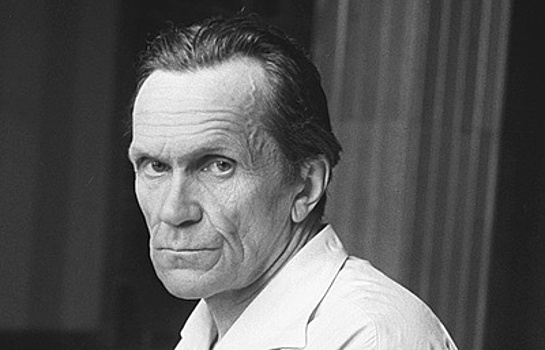"Я не апостол": Варлам Шаламов и его "пощечина сталинизму"
"Ах, солидол, солидол. Бочка, в которой был привезен солидол, была атакована сразу же толпой доходяг — дно бочки было выбито тут же камнем. Голодным сказали, что это — сливочное масло по лендлизу, и осталось меньше полбочки, когда был поставлен часовой и начальство выстрелами отогнало толпу доходяг от бочки с солидолом. Счастливцы глотали это сливочное масло по лендлизу — не веря, что это просто солидол", — этот отрывок из рассказа Варлама Шаламова "По лендлизу" — далеко не самый страшный эпизод из его "Колымских рассказов". Евгений Евтушенко называл главное произведение Шаламова "лоскутным одеялом истории, под которым невозможно спокойно спать" и "преподаванием истории не риторическими восклицаниями, а фактами". Математик и философ Юлий Шрейдер, друг писателя, говорил, что его проза это "беспощадное свидетельство человека, прошедшего ад". Сам Шаламов утверждал: “Каждый мой рассказ — пощечина сталинизму”. Сын священника, троцкист Варлам Шаламов родился 110 лет назад в Вологде в семье священника, служившего в главном городском храме. Варлам — имя довольно редкое даже в семьях священников. В России его давали принявшим постриг. Можно было бы сказать, что даже со своим именем он получил знак особого призвания. Хотя едва ли такая интерпретация понравилась бы самому Шаламову — твердому и убежденному атеисту. Отец Варлама, Тихон Николаевич Шаламов, в молодости работал православным миссионером на Алеутских островах, когда-то входивших в состав Русской Америки и переданных США вместе с Аляской в 1867 году. "Юконские рассказы" Джека Лондона сделали Аляску краем героической романтики Севера. Шаламов со своими "Колымскими рассказами" ввел в литературу совсем другой северный край, надолго ставший символом бесчеловечности и расчеловечивания. Тихон Шаламов оказался вовлечен в события 1917 года. Он активно включился в движение обновленчества и связал с себя с той частью церкви, которая не приняла патриаршество Тихона и изначально заявила о своей лояльности большевикам. По своему складу характера и убеждениям он не был хранителем патриархальных традиций — его семья входила в круг городской интеллигенции. Это во-многом, повлияло и на мироощущение Варлама. "Все исторические страсти русского народа хлестали через порог нашего дома" — отметил он в своих воспоминаниях. Первый раз Шаламов был арестован в 1929 году в Москве, будучи студентом факультета советского права МГУ (в выбранном предмете обучения можно увидеть злую иронию). Приехав в столицу в 1926-м юный Шаламов "оказался среди восторженных, едва ли не экзальтированных сверстников, которые построение нового мира полагали задачей двух-трех ближайших лет. ...Именно во второй половине 1920-х в России выросла и оперилась новая молодежь, почти ничего не помнившая о царской России. Первое поколение чистопородных коммунистов", — дает характеристику тому времени писатель Андрей Рубанов в своем эссе о Шаламове. "Завтра — мировая революция” — в этом были убеждены все", — писал сам Шаламов в своих воспоминаниях. Студент и литератор активно поддерживал троцкистскую оппозицию и был задержан в подпольной типографии. Времена еще были относительно "вегетерианские" — Шаламов получил три года лагерей, позже смог вернуться в Москву и даже получить работу редактора в журнале "За овладение техникой". Следующий арест последовал в январе 1937 года. Большой террор начался спустя несколько месяцев, поэтому и тут Шаламову "повезло": за "контрреволюционную троцкистскую деятельность" его осудили на 5 лет лагерей (спустя полгода осужденных по такому обвинению мог ожидать расстрел). Заключенного Шаламова направили на Колымские золотые прииски. Возвратиться в Москву он смог только в 1956 году: в лагере к прежнему сроку добавился новый — теперь уже 10 лет (по доносу об антисоветской пропаганде, которая заключалась в том, что Шаламов назвал эмигранта Ивана Бунина классиком русской литературы), а после освобождения еще надо было получать разрешение вернуться на "большую землю". Дно человеческой души Полтора десятилетия лагерной жизни Шаламова стали материалом для его "Колымских рассказов" — так, по названию одного из сборников, принято называть весь цикл произведений, посвященных колымским лагерям — одно из самых страшных повествований в русской литературе. Впрочем, страх, возможно, не вполне подходящее слово. Один из жестких упреков, который Шаламов бросил Солженицыну в своих дневниках: "В лагерной теме не может быть истерики. Истерика для комедий, для смеха, юмора". Любая экспрессия, апелляция к чувствам читателя, не переживших опыт ГУЛАГа — в том числе к чувству страха казались ему неприемлемыми. Шаламов лишь фиксировал, во что превращается человек в лагерях. Шаламов признавался, что в лагерях он узнал, что "дно человеческой души не имеет дна, всегда случается что-то еще страшнее, еще подлее, чем ты знал, видел и понял". Он писал о "безграничности унижений", "всякий раз оказывается, что можно оскорбить еще глубже, ударить еще сильнее". Холодным языком Шаламов описывает ледяной мир, где человек лишен любой надежды и поддержки, обречен на страдания и муки и находится в абсолютной власти тех, кто силою государства или воровского закона признается сильнее и выше тебя. Описывал земной ад — его обитателей и слуг. При этом Шаламов отказывался от роли учителя и со злостью говорил о постоянных претензиях русской литературы кого-либо поучать. "Я не апостол и не люблю апостольского ремесла. Беда русской литературы в том, что в ней каждый м**** выступает в роли учителя жизни, а чисто литературные открытия и находки со времен Белинского считаются делом второстепенным", — так однажды он написал в письме своему другу Юлию Шрейдеру. Здесь проходит принципиальный разлом между Шаламовым и Солженицыным — двумя гигантами лагерной литературы, которые обречены на сравнение и противопоставление. Солженицын описывал вселенную ГУЛАГа в качестве назидания современникам и потомкам. Шаламов же считал, что учить людей после лагеря нечему, а нравственный прогресс человечества — фикция. Сын священника Варлам Шаламов не верил в бога. "Я считаю себя обязанным не Богу, а совести и не нарушу своего слова", — писал он в дневниках. Совесть в мире почти беспросветного зла, почти неограниченного насилия и абсолютного принуждения все же подсказала ему один императив: никогда не делать с усердием то, к чему тебя принуждают и никогда не принуждать других к рабскому труду: "В забое я работал плохо и никого работать хорошо не звал, ни одному человеку на Колыме я не сказал: давай, давай". В рассказе "Тридцать восьмой" Шаламов говорит о том, что "арестант на предложение "давай" отвечает всеми мускулами — нет. Это есть и физическое, и духовное сопротивление". Полотенце вокруг шеи По-видимому, одной из установок, вынесенной Шаламовым из лагерного опыта стало стремление к независимости. Отчасти и этим можно объяснить его отказ от "учительской" роли. Не желал Шаламов вовлекаться и в околодиссидентскую среду. Он с едким презрением говорил о "прогрессивном человечестве", вершиной самопожертвования которых будет трешка, отдаваемая на складчину для гонимых или не признаваемых властью. Сам он неизменно отказывался принимать такие подношения. "Неужели по моим вещам не видно, что я не принадлежу к "прогрессивному человечеству"?", — пишет он в своих дневниках. Там же он отмечает, что принципиально решил довольствоваться тем, что давало ему государство. В советское время это обеспечивало иллюзию независимости, однако имело свою цену. Такой ценой стало в частности, вынужденное письмо Шаламова с протестом против публикации за границей "Колымских рассказов", напечатанное в 1972 году в "Литературной газете". Тогда многие представители тех, кого он называл "прогрессивным человечеством" посчитали поступок отказом писателя от своей высокой роли. Время и судьба "Колымских рассказов", кажется, подтвердили, что есть вещи неизмеримо более важные, чем репутации в узких кругах — но также и то, что сама необходимость писать такие письма, чтобы оставили в покое, больше говорит о времени, чем об авторе. Государство, на милость которого решил положиться Шаламов в конце жизни вновь продемонстрировало ему природу своей власти. Одинокий и страдающий тяжелым нервным заболеванием, Шаламов в 1979 году вынужден был переехать в пансионат для престарелых. Казенное учреждение пробудило в нем инстинкты лагерного выживания — он стал прятать еду, обматывать, чтобы не украли, на ночь полотенце вокруг шеи. И вообще он был довольно беспокойным постояльцем, доставлявшим хлопоты персоналу. От беспокойства решено было избавиться. После обследования врачебной комиссии Шаламова принудительно, пристегнутого к стулу, отправили в интернат для умалишенных стариков. "Несколько человек, сотрудники районного психоневрологического диспансера ...зашли в палату к В. Т. (Варламу Тихоновичу Шаламову. — Прим. ТАСС) и спросили его, какое сегодня число. В. Т. не ответил, не услышал, а вероятнее всего — не захотел отвечать. И, задав еще пару вопросов — какой день недели и что-то еще — комиссия покинула палату. Я побежала следом, пыталась объяснить, что В. Т. плохо слышит, мне кратко ответили — сенильная деменция. И ушли. В переводе на человеческий язык это означает, что полуслепой и полуглухой беспомощный человек, живущий в изоляции, не имеющий не то что телевизора или радио, но даже календаря, и не знающий, какое сегодня число, страдает старческим слабоумием", — вспоминала о той экспертизе переводчик Елена Захарова, которая провела с писателем последние недели его жизни. Перевод в интернат стал последним эпизодом в его судьбе. Через несколько дней — 17 января 1982 года он скончался от подхваченной во время перевозки пневмонии. Юлий Шрейдер утверждал, что последним соседом Шаламова по палате оказался прокурор сталинской эпохи. Станислав Кувалдин, при участии Виктора Дятликовича