Несовершенная красота: почему в японской культуре битая чашка считается произведением искусства
В издательстве «АСТ» в феврале вышла книга япониста Александра Раевского «Корни Японии» о религии и культуре Страны восходящего солнца.

Александр Раевский — историк-японист, доцент Университета Тохоку (Япония). Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова в 2006 году, защитил кандидатскую диссертацию о религиозной секте «Аум Синрикё» в 2015 году. Шесть лет назад он переехал жить в Японию. Накопившиеся знания об этой стране он решил изложить в книге. В 2022 году вышла его первая работа «Я понял Японию», в которой Раевский рассказывает о культуре и истории Страны восходящего солнца. А в 2024 году вышла её вторая часть — «Корни Японии».
На этот раз автор решил рассказать о религии и искусстве. Академические знания Раевский излагает живым и лёгким языком. Из огромного массива научной информации он выбрал лишь самое важное и интересное. Например, из книги читатель узнает о мифах, древних богах, религиозных обрядах Японии. А ещё о том, как проходили поэтические турниры аристократов и театральные представления горных отшельников.
С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о главных эстетических принципах японского искусства. Оказывается, у японцев и европейцев разное представление о красоте.
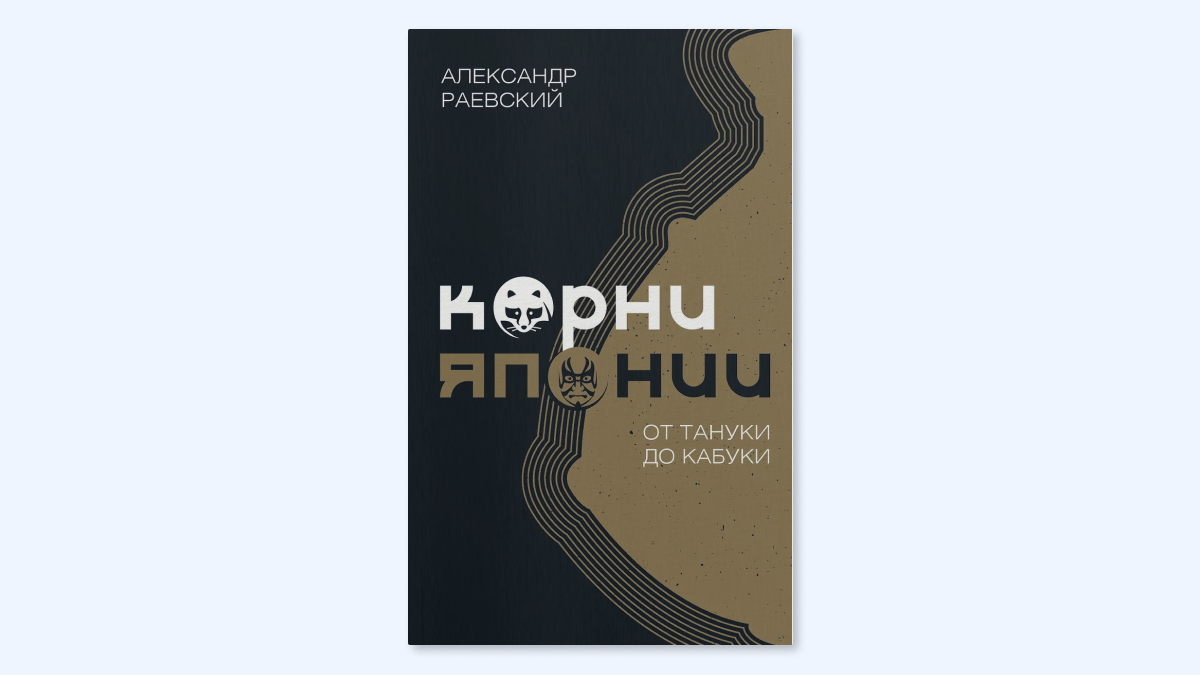
В 1581 году один самурай остановился на ночлег в бедном крестьянском доме в предместьях Киото и увидел там глиняный сосуд для хранения чая — рыжеватого цвета, с потрескавшимся чёрным лаком по краям. В этой безыскусной простоте скрывалось настоящее совершенство, и самурай попросил хозяйку продать ему этот сосуд, предложив семьдесят монов — сумму, которую она даже никогда в руках не держала. Сделка благополучно состоялась, и, вернувшись к себе в замок, он через несколько дней показал эту покупку своему господину, знатному даймё. Тот оказался также очарован её красотой и выкупил её за ещё большую сумму. Так простой чайный сосуд из крестьянской лачуги стал культурным достоянием, передававшимся в числе фамильных реликвий рода Хосокава.
Помимо самой очевидной идеи о простоте и скромности красивых вещей, эта история иллюстрирует ещё несколько отличительных черт японской культуры. Во-первых, удивительное единодушие: всем нравится одна и та же вещь, поскольку в японской традиции вкус — понятие не столько индивидуальное (мне нравится, а другому может и не понравиться), сколько коллективное, когда всем нравится одно и то же и стандарты красивого хорошо известны.
И во-вторых, поскольку настоящая красота — в простоте, а не в роскоши, то вкус и обладание красивыми вещами оказываются совершенно не связаны с материальным положением. Это в Европе только богатые люди могли окружать себя красивыми вещами, а остальным приходилось обходиться чем-то некрасивым и неказистым. В Японии же бедняки имели не меньше возможностей обладать красотой, чем богачи (а то порой и больше), что и показывает приведённая выше история.
Таким образом, в японской культуре бедность оказывается дороже богатства, и это очень тесно связано с понятием ваби — тем самым странным для европейцев эстетическим идеалом, согласно которому самое простое и безыскусное является самым драгоценным.
Но ещё один важный момент эстетики раку — это внешнее несовершенство этих изделий. Как уже можно было понять, для того, чтобы стать для японцев красивой, вещь таковой быть не должна. Всё по-настоящему совершенное не может быть красиво. Идеальные пропорции, выверенная симметрия — всё это убивает настоящую красоту. Или, как говорил дзенский патриарх Дзэккай: «Великое искусство — оно как бы неумелое».
Чтобы получать истинное удовольствие от красоты, мы должны видеть изъяны, сколы и потрескавшийся лак на чашке, иначе вещь будет слишком совершенной, чтобы быть по-настоящему красивой. Отчасти с этим связано появившееся в Японии искусство кинцуги: когда разбившуюся посуду не выбрасывают, а склеивают заново золотом, тем самым придавая ей дополнительную ценность.
В несовершенстве также проявляется наше сопереживание и соучастие в восприятии, поскольку совершенное не нуждается в сопереживании, разве что в восхищении. «Человеческому сердцу легче принять вещи неидеальные» — так это формулирует Раку Кичидзаэмон Пятнадцатый, продолжающий сегодня многовековую гончарную традицию.
Это перекликается с тем, что Дональд Кин называет асимметрией — одной из ключевых, по его мнению, особенностей японской эстетики. Всё правильное, ровное и симметричное — мёртвое; живое — напротив, слегка неровное и несимметричное. Своим тяготением к нарушению симметрии японское искусство часто нарушает каноны, к которым мы привыкли, и этим самым иногда ставит в тупик.
Это можно увидеть и в поэзии. В классических формах японских стихотворений — танка и хокку — по пять или три строчки соответственно (хотя и в Китае, и в Европе их, как правило, четыре). Это можно увидеть в японских садах, пренебрегающих симметрией ради воссоздания природного замысла. Это можно увидеть даже в уроках каллиграфии в японской школе: детей учат, что, пересекая вертикальной чертой горизонтальную, они не должны её проводить ровно посередине. Если взять чуть левее или чуть правее, получится и интереснее, и красивее.
Как избавиться от тревоги с помощью русских песен и плясок — советы психолога