Городской участок: как герцоги Вестминстерские получили своё богатство
В издательстве АСТ в июле выходит книга-исследование, посвящённая феномену богатства с XIII века до наших дней — «История богатства на Западе. Как боги среди людей».

Экономический и социальный историк из миланского университета Боккони Гвидо Альфани много лет исследовал природу экономического неравенства в странах Запада. Он изучал архивные документы, литературные произведения, свидетельства очевидцев о богатых родах, начиная с эпохи Средневековья и заканчивая XXI веком.
В своей книге Альфани подробно описывает, откуда появились разные знатные династии, как они приумножали и передавали по наследству свой капитал, как использовали выгодный брак для укрепления положения в обществе. Также автор разбирает влияние богатых классов на экономическую и социальную жизнь общества, рассказывает, как они влияют на глобальную повестку, в том числе меняют политику, культуру и многие другие аспекты общества. Говорит Альфани о том, как от века к веку менялось само отношение к богачам — от осуждения и презрения до восхищения и возведения их в культ богов.
С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как высшей знати удавалось сохранять и приумножать своё богатство. А также что помогло герцогам Вестминстерским стать одними из самых богатых людей в мире.
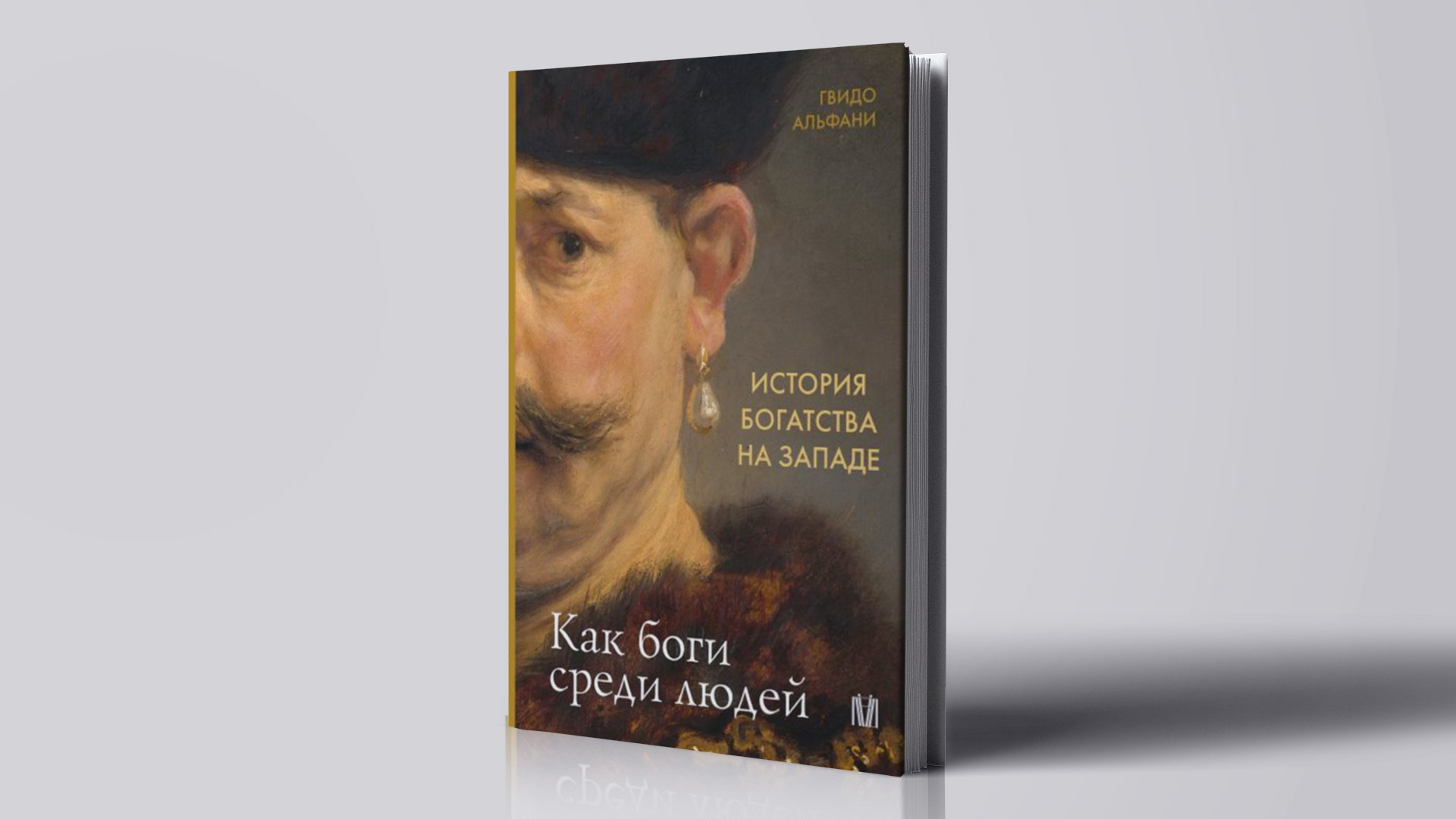
Тут нужно сказать ещё пару слов о том, каким образом дворянам удавалось (или не удавалось) сохранять богатство на протяжении многих поколений. Залогом сохранности богатства знати являются законы, регулирующие право наследования. В частности, чтобы избежать раздела вотчин, требуется система наследования, при которой наследуемое имущество не дробится. Как уже упоминалось, во Франции и в других областях Европы на рубеже XIX века вводились системы наследования (бывшей) феодальной собственности, направленные на её раздробление и подрыв имущественного положения старой аристократии.
Поскольку этот процесс был тесно связан с введением Кодекса Наполеона в 1804 году (требовавшего, чтобы каждому ребёнку выделялась доля наследства не ниже установленного минимума), очевидно, что между теми европейскими регионами, которые находились под влиянием Французской империи (Италией, странами Бенилюкс и некоторыми частями Германии), и остальными — в первую очередь Великобританией, самым могущественным противником Франции в эпоху наполеоновских войн, — возникло различие.
В Британии со времен Нормандского завоевания (XI век) до 1925 года при отсутствии имеющего силу завещания правилом по умолчанию оставался майорат — основанная на праве первородства система наследования, при которой старший из живущих сыновей получает наибольшую долю, включая феодальное поместье, если речь идёт о знати.
Более того, для высшей знати (к которой относятся герцоги, маркизы, графы, виконты и бароны) он имеет силу и по сей день — по крайней мере в той или иной форме, — поскольку титул передаётся по праву первородства по мужской линии. Теоретически в наше время британский пэр может передать справедливую долю наследства всем своим детям (как сыновьям, так и дочерям), но на практике, как правило, наибольшую долю имущества отца, включая поместья, получает сын, наследующий титул.
Хотя принцип неравноправного наследования, вероятно, следует считать одним из необходимых условий выживания знати среди богатых и сверхбогатых, он вовсе не является единственным и достаточным. Это подтверждается периодическими вливаниями новых средств, которые требовались многим знатным семействам из-за расточительного образа жизни. (К числу их проблем можно отнести и определённые законы, например в Британии XX века, создавшие, по крайней мере на время, неблагоприятные условия для крупных землевладельцев.)
Браки с богатыми простолюдинами, в том числе иностранцами, становились обычным явлением в среде британской знати в периоды, когда их состояния истощались, особенно с 1880-х годов, когда снижение цен на сельскохозяйственную продукцию в сочетании с относительно высокой стоимостью рабочей силы поставило многие крупные поместья на грань банкротства. При таких обстоятельствах брак с простолюдинкой казался приемлемой альтернативой продаже огромного количества земель или коллекций ценных произведений искусства по рыночным ценам.
Показателем этого является доля представленных королевскому двору женщин незнатного происхождения, которая выросла примерно с 10% в 1841 году до более чем 50% к концу столетия. Многие из них были дочерьми богатых американских промышленников. Нечто похожее происходило и в континентальной Европе: в качестве примера можно привести женитьбу в 1895 году известного своими утончёнными манерами и вкусом французского маркиза Бони де Кастеллана, ключевой фигуры Прекрасной эпохи, на Анне Гулд, дочери нью-йоркского железнодорожного магната Джея Гулда.

Это событие произвело сенсацию по обе стороны Атлантики, поскольку это был один из самых первых случаев брака французского дворянина и богатой американской наследницы — причём не менее сенсационным был их последующий развод (1906), после того как Бони растранжирил около 10 миллионов долларов США из наследства Анны (примерно 297 миллионов долларов по курсу 2020 года).
В других случаях богатство дворян сохранялось потому, что им хорошо управляли и/или потому, что некоторые дворяне смогли извлечь выгоду из новых возможностей, предоставляемых промышленной революцией и последующими научными разработками. Бывало также, что своим процветанием они отчасти были обязаны везению, как в случае с Гровенорами, к роду которых относится вышеупомянутый герцог Вестминстерский.
Это семейство получило дворянство относительно недавно (по сравнению с фамилиями, способными проследить свою родословную вплоть до Нормандского завоевания): Ричард Гровенор, верховный шериф Чешира, а позднее инициативный член парламента, стал баронетом только в 1622 году. Это семейство не могло не разбогатеть, после того как в 1674 году Томас Гровенор женился на молодой наследнице поместья Эбери. В его состав входили так называемые 100 акров к северу от Пикадилли (большая часть нынешней площади Мэйфэр в Лондоне) и «Пять полей» (Белгравия и Пимлико). Хотя в то время данный район занимали топи и болота, сейчас это один из самых ценных объектов недвижимости в мире.
Быстрый рост Лондона привёл к тому, что наследники семьи Гровенор, которые с 1874 года носят титул герцогов Вестминстерских, пожалованный королевой Викторией, были одними из самых богатых людей в Великобритании, по крайней мере с середины XIX века, и в течение многих лет они были самыми богатыми на свете.
К другим сверхбогатым дворянским кланам Великобритании, получившим чрезвычайную выгоду от стремительного роста цен на городские участки, особенно в Лондоне, относятся семейства Кадоган (графы), Портман (виконты) и Говард де Уолден (бароны).
Помимо выживания в некоторых странах Запада довольно большого числа богатых дворян, наблюдается гораздо более общий процесс консолидации национальной и международной богатой аристократии. Этот процесс затронул и те страны, которые решительно не признавали института дворянства, начиная с США. Алексис де Токвиль, утверждавший в середине XIX века, что для американской «республиканской демократии» характерна такая форма социальной иерархии, которая препятствует появлению аристократии (вследствие высокой социальной мобильности, открытости элит, чёткого отделения богатства от власти и массовой доступности образования), по-видимому, был слишком оптимистичен.
Согласно результатам множества исследований, вместе с упрочнением положения богатых династий сразу же проявилась тенденция к образованию чётко очерченной группы, обладающей всеми признаками аристократии. В XIX веке это было особенно заметно в крупных городах Восточного побережья США, начиная с Бостона, где многие из богатейших персон происходили из купеческих кланов, таких как Амори и Кэботы, добившихся видного положения примерно за 50 лет до Войны за независимость.
Они создали торговые дома в форме семейных фирм, что способствовало передаче по наследству как бизнеса, так и богатства. К началу XIX века, несмотря на недавнюю диверсификацию текстильного производства, богатая элита Бостона уже производила впечатление сложившейся и более консервативной по сравнению с элитой бурно развивавшегося города-конкурента Нью-Йорка. Историк Фредерик К. Джаэр утверждал, что, в отличие от Бостона, в нью-йоркском торговом [и банковском] сообществе не сложилось долгосрочной семейной преемственности…
Результатом демографического бума в Нью-Йорке [в XIX веке] явилось то, что старая элита Нью-Йорка, столкнувшись с более быстрыми темпами социальных и экономических изменений, не смогла выдвинуть из своей среды необходимое количество людей для заполнения руководящих должностей в метрополисе. Сравнительно медленный рост Бостона дал его ведущим семьям возможность удерживать своё положение на протяжении нескольких поколений, тогда как более широкие возможности Нью-Йорка манили новых искателей богатства, положения и власти.
Большой сосуд огня: древние исследователи выяснили, как выглядит ад на самом деле
