«Пулемётчица» и «брюзжалка»: какие птицы водятся на Дальнем Востоке
В издательстве «Альпина нон-фикшн» в августе выходит книга-исследование — «В верховьях “русской Амазонки”: Хроники орнитологической экспедиции».

Орнитолог Евгений Коблик много лет исследовал птиц в разных регионах России. В своей книге он рассказывает про экспедиции, в которых участвовал с 1992 по 1997 год на Дальнем Востоке. Вместе с коллегами Коблик исследовал самые потаённые уголки местности — горные вершины и труднодоступные таёжные территории, замечая там самых разнообразных пернатых, среди которых, например, редкие чёрные журавли, каменные глухари, дикуши и другие.
Большое внимание автор уделяет описанию птиц: их образу жизни, поведению, привычкам и уникальным голосам. Также в книге рассказывается о быте в исследовательских лагерях, трудностях, которые возникали при освоении новых территорий, стычках с коллегами и опасных ситуациях. Произведение проиллюстрировано зарисовками самого Коблика, которые он делал во время экспедиций и уже по возвращении домой.
С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как орнитологи ведут учёт «просыпающихся птиц».
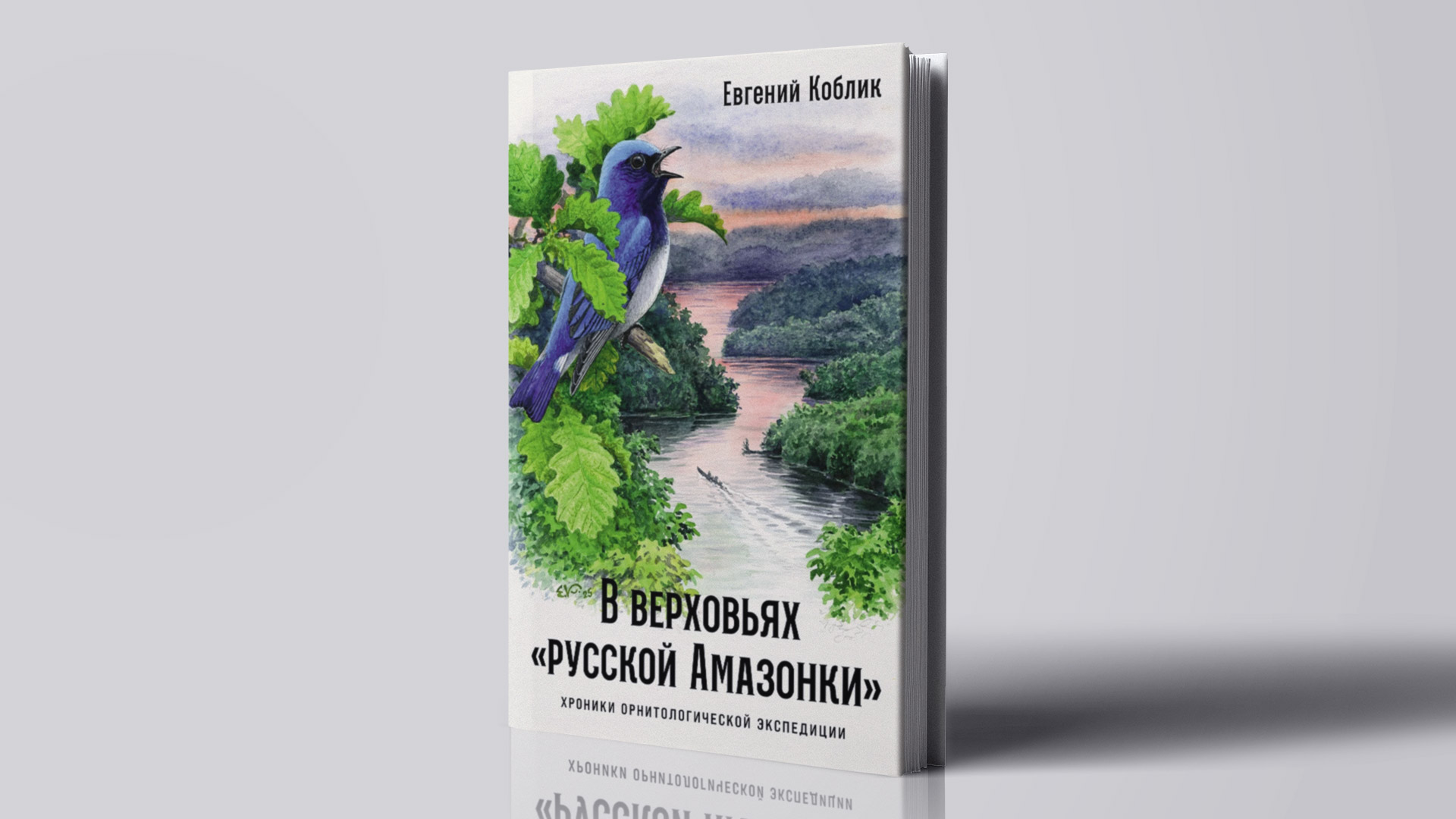
Уже не первый год мы с Костей практиковали учёт «просыпающихся птиц» — фиксировали очерёдность вступления разных пернатых певцов в общий ансамбль, начиная от первого солиста ещё в ночной темноте до наиболее мощного хора в семь-восемь утра. Потом вокалисты начинают по одному замолкать, приступая к иным занятиям, и звуковой фон постепенно становится беднее. Конечно, многое зависит от погоды, хода весны, календарных дат и прочего.
Несмотря на то что этот учёт проводится, не выходя из лагеря и далеко не каждый день, конечно, тяжеловато бывает подниматься ещё в кромешной тьме. Обычно «счастливчик» совмещает учёт с утренним дежурством — разжигает костёр, готовит завтрак. К счастью, бассейн Бикина находится не в высоких широтах, белых ночей здесь не бывает, светает относительно поздно, не рано просыпаются и птицы (не считая ночных певцов). Главное тут — не задремать случайно посередине учёта, когда в птичьем хоре долго не случается перемен.
На ранний звонок будильника реагируют далеко не все. Чтобы проснуться к нужному времени, орнитологи иногда заводят «гидробудильник», выпивая вечером определённое количество чая. Но рассчитать необходимую дозу жидкости бывает трудно, многое зависит и от температуры, погодных условий, степени усталости. Самый досадный сбой метода случается, когда исследователь покидает объятия Морфея и, не в силах терпеть, выскакивает «до ветру» ещё кромешной ночью. А потом дремлет вполглаза, дожидаясь срока.
Невзирая на подъёмы чуть свет, люблю я этот учёт! Сон у меня здоровый — когда надо, крепкий, когда надо, чуткий. Я быстро приспосабливаюсь к смене часовых поясов и легко просыпаюсь, настраивая «внутренний будильник» на нужное время. Если не случается хронического недосыпа, конечно. В нынешней экспедиции, экономя батарейки для фонарика (докупать негде!), я старался заниматься таксидермией и дневниковыми записями при дневном свете. Хотя, конечно, случались и ночные бдения с максимальным использованием света костра и полной луны.
В конце мая на Зевинском плато первыми запевали пятнистый сверчок и соловей-свистун (в 4:15 по моим записям одного из предутренних бдений). Нельзя сказать, что это лучшие здешние певцы: один однообразно, как насекомое, стрекочет, другой (даром что соловей!) издаёт лишь тонкое, быстро понижающееся и затухающее к концу ржание, перемежаемое слегка истеричным иканием. Словно периодически отпускают пружину заводной игрушки.

Затем просыпалась глухая кукушка — эта заводила своё низкое монотонное «ду-ду» уже на целый день, до вечера. «Дудушкой бы её назвать, а не кукушкой!» — всегда говорил Богдан, заслышав этот голос. Примерно через четверть часа разом вступали сразу несколько самцов таёжной мухоловки. «Мощно вступают», — сказал бы Костя («мощный» — одно из любимых его словечек).
Эту птицу называют ещё мухоловкой-мугимаки, мы для краткости говорили и писали просто: мугимаки. Взрослый самец окраской словно повторяет самца юрка — красивое сочетание чёрного, белого и рыжего цветов, локализованных на тех же участках оперения. А самка совсем невзрачна и почти не отличается от самок прочих мухоловок.
Жемчужный ручеёк песни мугимаки, словно прыгающий с камня на камень, с ускорением и понижением тона, я хорошо запомнил несколько лет назад на Енисее. В восторге от встречи с редким в тех краях видом, я ненароком смахнул биноклем очки с носа и около часа искал пропажу на таёжном пятачке. И всё это время самец таёжной мухоловки надрывался над моей головой. Честно говоря, зрение позволяло мне обходиться в полевых условиях без очков, но найти их было делом принципа! Очки так и остались где-то в тайге, а вокализация мугимаки впиталась в подкорку намертво.
Почти сразу за мухоловками запевали синехвостки. Первый раз я встретился с синехвосткой в Республике Коми — долго гонялся по ельнику за «ненормальным» дроздом-белобровиком, пока не установил истину. На енисейском стационаре «Мирное» короткую флейтовую руладу этой птички с вопросительным повышением тона заучивали мнемонической фразой «Птица из Сибири?». Но дальневосточные синехвостки поют проще и короче, проглатывая пару слогов. В верхнем течении Бикина мугимаки и синехвостка — виды-доминанты темнохвойной охотской тайги. Правда, первая предпочитает более сомкнутые, дремучие участки, а вторая проникает и в горы до каменноберёзовых редколесий и кедрового стланика.

Около пяти утра к хору присоединялся пухляк, предваряя свою песенку-побаловку с минорными ноющими нотами хорошо узнаваемой позывкой «ци-ци-джее». Чуть погодя включала дешёвый дребезжащий будильник — «тлилилилили...» бледноногая пеночка. Сверчки и свистун к этому времени понемногу умолкали. А песни желтоголового королька и сибирской завирушки уже неделю как стали эпизодичными — вокальный пик этих птиц приходится на более ранний сезон.
Только после половины шестого включались корольковые пеночки. Это ещё один вокальный доминант здешних мест. Малюсенькая (с королька, весит примерно 5–7 г) птичка не в пример прочим пеночкам раскрашена ярко — с лимонно-жёлтыми полосками и пятнами на голове, крыльях, пояснице. Поёт она с вершин деревьев, вертясь в разные стороны и поливая округу трелями разной скорости и тембра — «тью-тью-тью-тью-тью...пити-пити-пити-пити...титититити...тррррр...сив-сив-сив...тви-тви-тви-тви...». Словно лихо отстреливается в окружении врагов. Потому мы между собой величали эту птичку не иначе как «пьяной пулемётчицей».
Прилетающая ещё по снегу корольковая пеночка, как и оседлый королёк, может зависать в трепещущем полёте у самых концов веточек хвойных и лиственных деревьев и выклевывать оцепеневших мелких насекомых из укрытий между хвоинками и чешуйками почек. Она способна музицировать практически круглый день — когда только кормиться успевает! Фоновая вокальная активность «пулемётчицы» не затихает почти до августа, а после линьки продолжается в сентябре. Прямо какой-то зяблик дальневосточного региона — этот тоже любит поспать, зато потом поёт как заведенный!
Говорящие рабочие названия возникли у нас на Бикине и для других пеночек: «пеночка-будильничек» (для бледноногой), «пеночка-брюзжалка» (для светлоголовой, из-за резкой позывки «бжжиить»). Правда, восточную (или двухполосую) зелёную пеночку мы долго путали с крапивником, настолько её песня не походила по строю на привычную подмосковную.
Конфуз в первый сезон случился и с толстоклювой (голосистой) пеночкой — её сочные, взахлёб, трели «тли-тли-тли...лю-лю-лю-лю...дье-дье-дье...»,
разделённые размеренными паузами, мы почему-то сочли за вокализацию таёжного сверчка. Загадочные певцы сидели тогда ближе к вершинам огромных лиственниц и были плохо видны.
Лишь когда я и мой однокашник и друг Шура, оказавшись в последние дни сезона на луговинах низовьев Бикина, воочию увидели крупную (почти со скворца) бурую птицу, сновавшую в высокотравье и ловко взбиравшуюся на стебли борщевика со спотыкающейся булькающей песенкой «круть-путь-титивити», мы поняли свою ошибку. Вот же он — настоящий таёжный сверчок, оказавшийся вполне луговой птицей! И то Костя долго не хотел верить внезапному прозрению коллег и не спешил отказываться от первоначальной версии.
Редкие гады: кого поймали в водах Антарктики советские учёные
