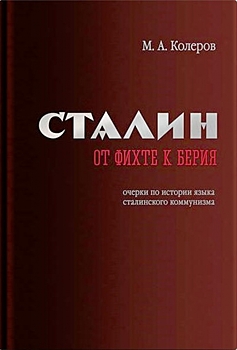Россия – исторически неполноценная или уникальная?
М.А. Колеров. Сталин: от Фихте к Берия. Очерки по истории языка сталинского коммунизма. 2 изд. М., 2020 Десятилетиями нашей стране прививался комплекс исторической неполноценности: СССР одновременно клеймили и как безумный эксперимент, как чудовищную мутацию на теле «правильного» западного мира, и как национально-русскую патологию, идущую от «рабского сознания» и «тоталитаризма» времён Ивана Грозного или Петра I. Настоящей травмой это стало благодаря поддержке отечественной элиты, политической и творческой: сталинистов, рвущих со Сталиным; коммунистов, отрицающих всю советскую эпоху. Стоит ли удивляться, что карты «тоталитарности» и сравнения с Гитлером продолжают разыгрывать против России по сей день? По иронии, даже сама эта «травля» не является уникальной. Китай, необходимый мировой экономике, подвергается таким же безальтернативным обвинениям в «тоталитарности» и бесчеловечности. Авторы вроде Лу Синя в разгар военных переворотов начала ХХ века ввели формулу якобы присущего китайской нации «людоедства». В то же время, проблемы граждан Саудовской Аравии остаются для западной разоблачительной машины совершенно безынтересными, если не запретными. Всё это сложно понять, если не уйти от обсуждения СССР как уникального феномена, вызвавшего исключительную реакцию «мирового сообщества». Историк Модест Колеров в книге «Сталин: от Фихте к Берия» последовательно вводит сталинизм в контекст западной истории начала ХХ века, затрагивая и экономические, и политические, и даже эстетические его стороны. Автор показывает, что СССР встраивался в новую эпоху протекционистских милитаризированных «тотальных» государств, используя обычные для того времени методы, отнюдь не изобретённые коммунистами. Мировая система с выраженным промышленным «гегемоном», Великобританией, сменялась борьбой нескольких империй. В этой битве Россия либо должна была «дотянуть» себя до статуса самостоятельного игрока, либо оказаться в зависимом положении. К 1917 году наша страна стремилась ко второму варианту. Сталинизм был попыткой вытащить Россию на первые роли именно что «нормальными» методами, со всеми их издержками (которые неправильно как отрицать, так и преувеличивать), применёнными в условиях периферийной страны. Победа в Великой Отечественной войне, своеобразной высшей точке этой милитаристской эпохи, — лучшее свидетельство исторической адекватности сталинской системы. С другой стороны, незваный конкурент в империалистической борьбе, давший пример другим странам периферии — естественно стал объектом ненависти для просвещённого мира. Такая «нормализация» исходной точки, открывающая советский опыт для сравнений и сопоставлений, позволяющая осмыслить материальную и идейную обусловленность сталинизма, — огромная заслуга автора. Однако доказанное тождество сталинского СССР и других тотальных государств — лишь одна сторона вопроса, исправляющая «перегибы» антисоветской пропаганды, но не исчерпывающая тему. Выделение общих тенденций ещё не даёт понимания конкретной ситуации. Так, возникает очевидный вопрос: почему «тотальность» в России оказалась реализована не царём, и даже не февральским союзом буржуазии и обуржуазившейся аристократии, а некоей частью полумаргинальной партии левых радикалов? Разрушение единой «мировой системы» во главе с Великобританией не означало, что все страны внезапно оказались предоставлены сами себе. Само деление капиталистических стран на центр и периферию подразумевает наличие существенной международной связи, силу которой необходимо учесть. Колеров упоминает зависимость Российской империи от иностранного капитала — и это не в меньшей степени отвечает логике «тотальности». А вот переход от зависимой периферии к центру оказывается здесь проблематичным. Если сталинизм и следовал логике эпохи, то революционный переход России к сталинизму является чем-то особенным. И если общезападные традиции и милитаризация соседей наложили на СССР свой отпечаток, то почему не могла этого сделать революция и связанная с ней левая интеллигентская традиция? Характерно, что в книге про сталинизм марксизму и коммунизму уделяется минимум внимания. Маркс и левая мысль рассматриваются здесь исключительно как часть модерна. Однако если мы прочитаем все «источники» марксизма, и даже всех его современников — значит ли это, что мы уже поняли Маркса, не читая его самого? Подчёркивая формальную преемственность марксистского языка, автор преуменьшает новизну его содержания. На примере нации историк Эрик Хобсбаум показал, как содержание одного и того же понятия может отличаться в зависимости от времени, страны, идеологических предпочтений и даже социального положения. Потому после вопроса о единстве марксизма и западного «мэйнстрима» следует поставить вопрос об их различии, а затем — о различии внутри самого марксизма в странах центра и периферии, в более и менее радикальных группах. Марксизм соотносился с эпохой «тотальности», но он был порождён и развит её «тёмной стороной». Если Маркса и Энгельса ещё можно отнести к идеологам (критическим) капиталистического «центра» (хотя Германия всегда представлялась им отсталой страной), то, по замечанию историка Перри Андерсона, самые продуктивные марксисты так или иначе оказывались на периферийных или аутсайдерских позициях. Марксизм был частью модерна, но он был внесистемно-протестной его частью, альтернативным его осмыслением. Эта неустойчивая и проблематичная альтернативность становится не менее важным фактором в ХХ веке, чем основные тенденции капитализма. Читайте также: Марксизм для марксистов: почему левая политика отделилась от масс В книге марксизм часто «округляется» до модерна. Например, вопрос о возможности социализма в отдельно взятой стране легко смещается к вопросу о возможной независимости отдельно взятой страны в капиталистическом мире начала ХХ века. Для революционеров спор шёл о реалистичности и действенности власти Советов (в противовес узкому составу партии), о классовом составе Советов и партии (тех самых «разнородных групп» под «скорлупой советского тоталитаризма»), о способности России свернуть с проторенной капиталистической дороги. Надежда на мировую революцию неотделима от альтернативных целей: Ленина сложно заподозрить в непонимании глобальных националистических тенденций (в противоположность Гильфердингу, верившему в единство новой мировой системы, лидер большевиков подчёркивал именно разделение и борьбу империй), и занимал его скорее вопрос о том, насколько эти тенденции непреложны. Смогут ли Советы опрокинуть буржуазное правительство? Обречена ли крестьянская страна с немногочисленным пролетариатом на войну, партийную диктатуру и элитарное перерождение верхушки? Хватит ли революционного импульса на то, чтобы модернизировать страну, и потом ещё сделать её социалистической (экономически, политически и социально)?.. Нужно очень многое проигнорировать, чтобы свести надежды на помощь немецкого социализма в преодолении авторитарно-модернизаторского этапа, например, к вопросу об экспорте революции в Россию, возможном господстве Германии над Россией и, тем более, о германском военном вторжении. Не говоря уже о том, что отношения большевиков с немецкой социал-демократией к 1917 году были весьма натянутыми. То же применимо и к «предавшей» коммунизм немецкой социал-демократии. Можно сколько угодно ссылаться на русофобию Маркса или Энгельса (которую тогда уж надо дополнить не менее выраженной германофобией, доходившей до готовности отдать иностранцам спорные территории — если и не видеть под обеими общего фундамента), однако война совершенно не входила в их планы. Военные действия ставили социал-демократов перед заведомо проигрышной альтернативой: либо поддержать буржуазное «тотальное» государство, отказавшись от своих претензий на альтернативность, либо потерять все завоёванные в политической системе позиции. «Несомненно одно: ни царь, ни французские буржуазные республиканцы, ни само германское правительство не упустили бы такого прекрасного случая, чтобы раздавить единственную партию, которая для всех троих является врагом.» Фридрих Энгельс. Социализм в Германии. 1892 В этой ситуации Энгельс мог только угрожать своему правительству немедленной революцией и посылать сигналы французским социалистам, надеясь на отсрочку войны. В «Социализме в Германии» можно угадать будущую ленинскую линию по поводу сепаратного мира: устранение враждебного соглашательского правительства, апелляция к мировому общественному мнению, вынужденная оборонительная война. Можно только гадать, куда повернула бы история, будь немецкие социалисты более «авантюрными». Для внесистемных большевиков выбор оказался гораздо более лёгким. Впрочем, они по-своему оказались пленниками логики грядущей мировой войны. Левые на Западе не достигли поставленных целей — что отнюдь не тождественно их полному исчезновению, политической и интеллектуальной гибели. Уже в первой половине ХХ века они сыграли свою роль и в пришествии Рузвельта и Уоллеса в США, и во французском движении сопротивления, и в распространении влияния СССР. В ещё большей степени это верно для России: хотя большевики и подчинились логике ускоренной модернизации (момент, прекрасно описанный в книге), сам переход от периферийного капитализма с зависимой буржуазией к государственному капитализму центра стал возможен именно благодаря их «антисистемному» видению, их ставке на Советы, революцию (вопреки стратегической нелогичности), способности использовать момент, противоречия мировой войны и слабости периферийного режима. Менее радикальная, более держащаяся за «тенденции» сила, не смогла бы на это пойти и не вызвала бы той недолгой, но влиятельной «искры» 1917 года. Нельзя сказать даже, что последовавшие события, логично приведшие к Перестройке и вливанию на периферийной (о, ирония!) роли уже в действительно всемирную капиталистическую систему, оказались вне марксистского предвидения. Отмирание государства — интуитивный, а потому несовершенный протест против тотальности капитализма и бюрократии; организационная наука и пролеткульт — попытка компенсировать негативные стороны индустриализации и того же бюрократизма, и т.д. Многие наработки, давшие толчок «всего лишь» созданию красной сверхдержавы (опять же, не лишённой массы своих особенностей: взять хотя бы организацию общественной жизни вокруг заводов; взаимоотношения криминала, бизнеса и чиновничества; строение и традиции гражданского общества) и социального государства на другом полюсе, сегодня обретают новое звучание и новые основания. Хотя марксизм стал менее антисистемным и более академическим, сложно не отметить его общую живучесть. В итоге, помимо примерки на себя старой «тотальности» (в условиях всё-таки совсем иной мировой системы), связанной в России со сталинским периодом, мы должны помнить и о всём, выходившем за её пределы. И как силы, позволяющей действовать несколько вопреки логике империализма (выйти из ловушки периферийности), и как критического подхода, позволяющего работать с миром за пределами модернистских «тотальных» государств. Читайте также: Итоги мирового кризиса — национализм против глобализма: победила дружба? Обсуждать всё это невозможно, когда над душой весит необходимость каяться за сталинизм (а заодно коммунизм и марксизм), и когда условия, в которых марксизм рождался, развивался и искажался, нам не ясны. Книга Колерова многое даёт для решения описанных задач; необходимо только обозначить её пределы, обусловленные и поставленной автором задачей, и реальными целями сталинизма, далеко ушедшими от марксистской проблематики.