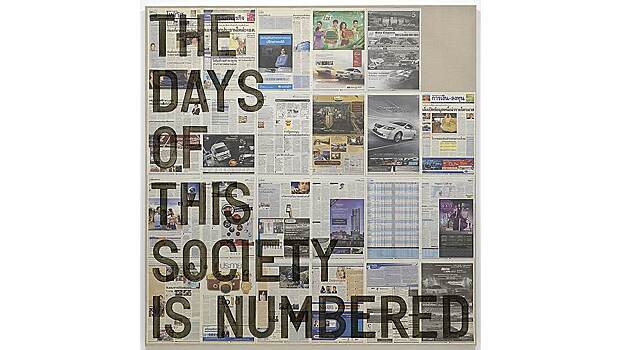Американцы в Париже
Анна Толстова о дипломатическом визите MoMA во Францию В Фонде Louis Vuitton открылась очередная выставка-блокбастер "Быть современным. MoMA в Париже": 200 первоклассных работ, многие из которых -- шедевры в точном смысле слова, покинули Музей современного искусства в Нью-Йорке ради первых парижских гастролей на одной из самых модных сцен Нужно ли представлять музейную коллекцию, в представлении не нуждающуюся, потому что любой альбом в жанре "100 шедевров искусства XX века" на добрую половину основывается на собрании MoMA? Есть ли смысл вывозить знаменитый музей из одного туристического центра мира в другой? Все эти вопросы сами собой исчезают на выставке "Быть современным. MoMA в Париже". И дело даже не в том, что в самом Музее современного искусства в Нью-Йорке вы никогда не увидите такой отточенной истории, истории искусства XX века и истории музея, где его впервые решили собирать, руководствуясь не частным вкусом, но определенной программой и четким пониманием своих задач, потому что постоянная экспозиция в MoMA местами выстроена как раз по частным вкусам, то есть блоками коллекционерских даров. Дело в том, что именно в Париже MoMA хочет предстать при полном параде, когда уши по-бальному вымыты, надушены и напудрены. Ведь отношения Парижа и Нью-Йорка, как кажется, до сих пор омрачены борьбой за первенство, за право зваться мировой художественной столицей, и никакие научные исследования, показывающие, как Нью-Йорк "украл идею модернизма" в Советской России, и никакой парад локальных идентичностей с попытками поднять на щит другие центры вроде Берлина, Дюссельдорфа, Лондона, Барселоны или Лос-Анджелеса так и не смогли сломать привычную схему истории искусства XX века: до 1945-го оно делалось в Париже, после -- в Нью-Йорке. Один из "хитов" парижской выставки, триптих "Отплытие" Макса Бекмана, написанный в 1932-1935 годах, словно бы предвосхищает и одновременно иллюстрирует эту историю: две боковые панели являют сцены чудовищных пыток и мучений, подводя итог немецкой экспрессионистической традиции, заложенной Грюневальдом, центральная же панель с голым королем и другими беженцами, вырвавшимися из ада и отплывающими в синюю даль на лодке с опущенными веслами, исполнена постапокалиптического смирения. Да, тут, конечно, возникает еще одна щекотливая, болезненная для самолюбия обеих столиц тема -- вечный искусствоведческий вопрос ученичества, влияний и подражаний. Ответ вроде бы так же прост, как и схема "до и после 1945-го". Естественно, "до" Нью-Йорк тайно и явно вздыхал по Парижу, и мечтал о нем, и отправлялся в паломничество, как в Мекку. Но "после" -- после начала войны, когда Париж едва ли не в полном составе переехал в Нью-Йорк (см. вышеупомянутое "Отплытие"), после Освенцима (ibid.), после многих других "после" -- координаты Мекки изменились. И вот уже волна победителей-учеников захлестывает Венецию, и что такое информель в сравнении с Джексоном Поллоком, и что такое европейский поп-арт в сравнении с Энди Уорхолом! И паритет как будто бы восстанавливается лишь к 1968-му, к расцвету концептуального искусства, к чемпионату мира по шахматам "Джозеф Кошут против Марселя Бродтарса", но тут Нью-Йорк предъявляет свой главный козырь, отца концептуального искусства Марселя Дюшана, деликатно, но настойчиво напоминая, что фонтан-писсуар забил, разбрызгивая струи опасных догадок насчет того, что искусство есть искусство, именно на Пятой авеню, 291, в студии-галерее Альфреда Стиглица. Хотя каталожная статья директора MoMA Гленна Лаури полна иронии по поводу медийного образа храма искусства модернизма, где все работы -- иконы, а все сотрудники -- служители культа, на выставке нет и намека на ересь или иконоборчество. Вы полагаете, американцы в 1929-м, когда был основан MoMA, всего лишь рабски поклонялись Европе, а Альфред Барр-младший, создатель и первый директор музея, ценил лишь заокеанский модернизм? Вы ошибаетесь, и вот доказательство. Вот самая первая картина, попавшая в коллекцию: "Дом у железной дороги" Эдварда Хоппера, классика американского модернизма, которого именно Барр и защищал от злобных нью-йоркских критиков, писавших, что это "такой же модернизм, как и дорическая колонна". Вы думаете, что до самого окончания войны MoMA оставался островком свободомыслия посреди диковатой и в целом равнодушной к современному искусству страны? Отчасти первая же работа, какую мы видим на выставке, способствует утверждению этого стереотипа. Про золотую "Птицу в пространстве" Константина Бранкузи рассказывают известный анекдот: когда Эдвард Стайхен, друг скульптора и будущий начальник музейного отдела фотографии, пытался ввезти один из вариантов скульптуры в США, таможенники потребовали уплатить пошлину, поскольку приняли "Птицу" не за произведение искусства, подлежащее свободному ввозу, а за какую-то кухонную утварь -- потом Бранкузи подал в суд и выиграл дело. Искусствоведы любят цитировать постановление суда: там много остроумных замечаний о природе абстракции -- гораздо более прогрессивных замечаний, чем те, что нередко выдавала тогдашняя критика. Но "Птица в пространстве" нужна не для того, чтобы показать, в каких тяжелых условиях приходилось трудиться Барру, а для того, чтобы срифмовать ее ар-декошные, аэродинамические формы с формами промышленных изделий, винтов, болтов, подшипников -- ведь в 1934-м, устроив выставку "Искусство машины", MoMA начал собирать коллекцию промышленного дизайна, и это наряду с традиционными для художественного музея живописью и скульптурой. Мы, впрочем, вряд ли назовем традиционной скульптурой один из ранних мобилей Александра Колдера "Вселенная" -- ее музей заполучил в том же 1934-м; по легенде, перед ней часами простаивал Эйнштейн. Снимки Эдварда Вестона и Эжена Атже, фильмы Уолта Диснея и Сергея Эйзенштейна -- MoMA первым среди всех художественных музеев мира стал коллекционировать фотографию, кино и анимацию как новые виды искусства. И для музея, чей попечительский совет состоял из разнообразных рокфеллеров, это было поразительное левачество, но, собирая революционные фотомонтажи Густава Клуциса и партизанские плакаты эпохи гражданской войны в Испании, MoMA как бы показывал, что искусство важнее политики. И если политика определяет его содержание, то -- милости просим, все флаги будут в гости к нам: и "Радужный флаг" Гилберта Бейкера, и "Афро-американский флаг" Дэвида Хэммонса. Отдел театра и танца, закрытый было в 1948-м, но возродившийся в виде собрания перформанса, когда тот встал на повестку дня в конце 1960-х,-- послушайте барабанную дробь Стива Райха и посмотрите "Трио A" Ивонн Райнер. Отдел архитектуры вместо отдельного архитектурного музея -- не только макеты и чертежи, не только полное собрание сочинений Людвига Миса ван дер Роэ, но даже фрагменты конструкций: в Париж притащили фрагмент демонтированного при реконструкции фасада манхэттенской штаб-квартиры ООН, к строительству которой приложили руку Ле Корбюзье и Оскар Нимейер. Отдел дизайна, позднее слитый с отделом архитектуры,-- среди его недавних приобретений значок "@" Рея Томлинсона и целой стайка эмодзи Сигэтаки Куриты. А параллельно в архивно-документальном разделе выставки рассказывается история собственно музея -- не как одного только собрания вещей, показанных на эпохальных выставках и заложивших основу новых направлений коллекции, но как института с множеством функций. Вот в 1937-м в MoMA открыли "детскую галерею" -- нет, разумеется, они не первыми догадались работать с детьми, история эрмитажных школьных кружков тоже теряется где-то в глубинах довоенных лет, но в Эрмитаже школьникам преподавали историю искусства, а в MoMA с ними стали заниматься модернистским формотворчеством, то есть тем, что сейчас делают в каждом музее, где есть хорошие музейные педагоги. Вот в 1944-м при MoMA создали Центр искусства для ветеранов войны -- считается, что это был первый в истории опыт музейной арт-терапии. Конечно, это апологетическая история, и все неловкие страницы -- скажем, протестная листовка Эда Рейнхардта "Насколько современен Музей современного искусства?", зло критиковавшая Альфреда Барра за консерватизм,-- из нее вырваны. Но сам вопрос, заданный Эдом Рейнхардтом и "Американскими абстрактными художниками" в 1940-м, так и висит в воздухе -- чем ближе дело к нашим дням, тем тяжелее музею на него отвечать, и видно, как коллекция MoMA постепенно теряет свой хрестоматийный статус. Но, может быть, сама идея хрестоматии глубоко несовременна? И, может быть, впору отказываться от роли солиста в пользу хора? Последняя работа на выставке -- "Мотет для 40 голосов" Джанет Кардифф, переложившей полифоническое сочинение композитора-елизаветинца Томаса Таллиса для 40 колонок, расставленных кругом по периметру зала,-- говорит, а точнее, поет об этих сомнениях в необходимости лидирующего голоса. «Etre moderne: le MoMA à Paris». Fondation Louis Vuitton, Париж. До 5 марта 2018 года