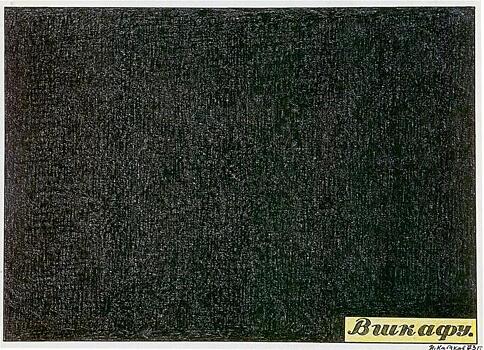Екатерина Деготь. Загадочное русское тело
«Загадочное русское тело» фигурирует в известном анекдоте: иностранец, пав жертвой буквального прочтения русской бранной идиомы, удивляется странной анатомии местных мужчин. То, что он считает телом, является на самом деле феноменом чистого текста. Полученный иррациональный результат есть риторический монстр, порожденный самим языком. Русский мат в данном случае опознан как классический симулякр, подобный заклинаниям коммунистической идеологии: ход мышления, достойный соц-артиста. Анекдот этот явно принадлежит эпохе 70-х годов. Тогда типичная для всей советской действительности ситуация фрустрирующего несовпадения языка и смысла была иронически освоена культурой — разумеется, критической, сознающей ее частью, к которой равно относятся как московский концептуализм, так и анекдот, выдержанный в жанре скептической рефлексии. Оба эти феномена обжили зазор между текстом и реальностью — пустырь, который не был и не мог быть территорией официального искусства, поскольку то отрицало (в том числе и в чисто психоаналитическом смысле) само его существование. Впрочем, объект иронии в анекдоте — не сама культурная ситуация, а человек иной традиции, не понимающий правил игры. Соц-арт и концептуализм 70-х — 80-х дезавуировали сталинскую риторику, но сделали это, можно сказать, с удовольствием, оставшись внутри культуры Тотального Текста и добровольно сложив с себя все обязательства по отношению к телу. Это искусство явно игнорирует тело как в качестве предмета, так и в качестве средства высказывания; оно едва не доходит до радикальной аскезы в духе чистых медитативных упражнений, а всякий слабо отрефлектированный физический жест в нем окружен атмосферой презрения. Юрий Альберт говорит «языком тела» в одной из частей своей серии «Элитарно-демократическое искусство» («Искусство для глухих», 1988) отнюдь не в надежде внести в речь экзистенциальное измерение, а как раз напротив, для того, чтобы довести бессмысленно-назывной характер своего языка до возможного предела. Однако в этой культуре именно отсутствие тела есть форма его значимого присутствия. В лакунах телесности, ее мерцаниях и разрывах, очевидно, и скрывается corpus delicti. Тем более важный, что отказ от телесности, пожалуй, не был свободным выбором — московское концептуальное искусство 70-х — 80-х годов жило в болезненном неприятии своей телесной компоненты. Илья Кабаков. Лист из альбома «Вшкафусидящий Примаков» (серия альбомов из цикла «Десять персонажей»). 1971–1972. Источник: ilya-emilia-kabakov.com Конечно, неофициальная культура, в отличие от официальной, осознала свою зависимость от сталинского наследия, и здесь-то и пролегла грань между ними. В то время как официальная часть культуры загоняла свой страх все дальше в подсознание, отрезав всякие воспоминания о сталинской эпохе, соц-арт и (особенно) концептуализм Кабакова послужили психотерапевтическим средством для культуры в целом, сделав этот страх предметом своего искусства, и следовательно, расколдовав себя. Сегодня, впрочем, очевидно, что свобода московского концептуализма 70-х — 80-х от сталинской парадигмы далеко не абсолютна. В частности, это касается неизжитого (не осознанного отчасти до сих пор) страха перед телом — и враждебности по отношению к нему. Искусство 30-х — 50-х годов породило многочисленных монстров телесной риторики. Симулякры вздутых мускулов прикрывали (что блестяще описано Михаилом Рыклиным) ужасающие провалы физической опасности для тел реальных, выпавших из «тела коллектива». Риторическая телесность отняла у личности право не только на личное пространство, но и на тело. Победительное (то есть неизбежно ложное) тело внушало страх — на его стороне была власть абстракции над конкретностью и власть коллектива над индивидуальностью. То, что можно назвать прото-неофициальным искусством 30-х годов (живопись Фалька, Древина, Мих. Соколова, Софроновой, если вспоминать только наиболее известные имена), не было способно противопоставить соцреализму сознательной альтернативы, стилистической или иной. Ему ничего не оставалось, кроме как избегать всего запятнанного, в том числе и триумфирующего коллективного тела. Это искусство дисгармонично и внутренне конфликтно еще больше, чем соцреалистическое: эпитет «нездоровое искусство» здесь был бы вполне уместен. Его поэтика несет на себе печать вынужденности, и, в частности, это касается невыявленности, смазанности телесной компоненты, как бы попавшей под слепое пятно взгляда. Бестелесность и асексуальность человеческих фигур, прозрачная от желания стушеваться живопись, блеклые цвета, эстетика осторожного и едва заметного — в основе всего этого лежало бессознательное стремление избежать победительного «тела большинства», выраженной телесности, внушающей страх. Отсюда и до сих пор не подвергнутая сомнению этика телесной неполноценности как залога полноценности духовной — знак неосознанного протеста против официальной сентенции «в здоровом теле — здоровый дух». В этом и заключалось «родительское предписание», полученное московским концептуализмом (значительно более тесно связанным с традицией живописи Фалька, чем это обычно кажется): подлинное искусство по возможности бестелесно, подлинное тело страдательно и гонимо и только в этом обретет свою идентичность. Илья Кабаков. Лист из альбома «Вшкафусидящий Примаков» (серия альбомов из цикла «Десять персонажей»). 1971–1972. Источник: ilya-emilia-kabakov.com Сталинское искусство жило в условиях физической угрозы, и вне этого факта не может быть понято. Когда же — в 70-е годы и позднее — эта угроза перестала существовать, скованность телесного чувства, потеряв реальную мотивировку, превратилась в посттравматический невроз, причина которого была тщательно забыта. Телесная проблематика болит в московском концептуализме, как ампутированная конечность. Отсутствующее тело указывает на свое существование лишь фантомной болью в мозгу, и там — в сознании личности — и есть его истинное место. Тело присутствует в этом искусстве либо как тело «исчезающее», либо как тело «мысленное». Крис Берден в своем известном перформансе просидел пять дней в узком шкафчике спортивной раздевалки. Этому неоспоримому проявлению брутальной телесности в русском искусстве противостоит история Вшкафусидящего Примакова, разворачивающаяся лишь на бумаге. Опыт Примакова, как виртуальный, меньше, чем опыт Бердена, но и больше: тот просидел в шкафу всего пять дней, тогда как Примаков пребывает в нем пожизненно, и за этим стоит экзистенциальный опыт самого автора (воплощенный и в более поздних его работах, и в знаменитом «духовном портрете» работы Макаревича) — опыт куда более радикальный, чем берденовская инсценировка. «Русское тело», таким образом, либо не дотягивает до реальности, остается в безопасной плоскости метафор, либо расплывается в тотальности и банальности повседневного опыта. В любом случае в нем мало телесного: искусство как будто не решается на буквальность. Западный художник добивается гипертрофии телесного присутствия — в русском искусстве тело дано исключительно в модусе отсутствия, составляющем привкус любой метафоры. Телесность в русском искусстве действительно отгорожена стеной множества метафор, а искусство 70-х, официальное и неофициальное, вообще выглядит болезненно метафорическим. Впрочем, сама реальность 70-х неизбежно выглядела символической по отношению к единственно аутентичной реальности, с которой столкнулось искусство сталинского времени — реальности физической опасности. Маячащая вдали уголовная ответственность за искусство, в смутном переживании которой жил московский концептуализм, — всего лишь метафора угрозы смерти. Илья Кабаков. Лист из альбома «Вшкафусидящий Примаков» (серия альбомов из цикла «Десять персонажей»). 1971–1972. Источник: ilya-emilia-kabakov.com Смысл жеста Криса Вердена состоял, напротив, в попытке радикального отказа от метафор ради той окончательности, которую предоставляет только нередуцируемое тело. Измученная культура отсылок и референций жаждет окончательной точки, за которой уже не следует больше ничего. Но для русского художественного сознания тело, очевидно, отнюдь не окончательность. Телесность относится здесь к области внешнего, а не внутреннего. В западной культуре тело обретает свою идентичность по отношению к одежде, как нечто обнаженно-подлинное в оболочке неподлинного, — отсюда развитая культура нудизма и развитая практика перформанса, апеллирующего к телу как к последней аутентичности, пределу рефлексивности и противоядию от знаковости. В России же идентичность тела определяется в дифференции исключительно с душой, по отношению к которой оно отягощено вечным комплексом вины — как внешнее и неподлинное. Это мазохистское отношение к телу привело в русском контексте к тому же результату, что и общемировая тенденция к честному признанию смерти искусства, — банализации материальных результатов. Однако редукция и аскеза в нашем искусстве играли роль скорее охранительную: они были проявлением целомудрия, а не тотального нигилизма. Во всяком случае, тело в московском искусстве мы застаем, как правило, в момент его исчезновения. Многочисленные перформансы КД варьировали gestus появления («Появление», «Десять появлений», «Третий вариант»), однако оно никогда не разрешалось в телесном присутствии, а было лишь предлогом для «потери из виду» — своего рода функцией мотива смерти. Даже в мухоморовской акции «Раскопки», в которой герой эффектно выскакивал из-под земли, где пролежал некоторое время (что напоминает брутальные опыты западного искусства), он делал это лишь с тем, чтобы немедленно исчезнуть в ближайшем лесу и остаться только в памяти — и документации, на которую (а не на присутствие «здесь и сейчас») были ориентированы московские перформансы вообще. Игорь Макаревич. Шкаф Ильи (Портрет Кабакова). Правая часть трехчастной композиции. 1987. Смешанная техника. Русский музей Избавиться от тела — заветная мечта героев Кабакова, поскольку вырваться из пределов метафорической коммунальной квартиры они могут, лишь сбросив одновременно телесные оковы. Свобода требует чистой спи-ритуальности, что было доказано и предпринятой группой «Гнездо» «Получасовой попытке материализации Комара и Меламида», — фотографии представляли героев, пересекших к тому времени мистическую границу, оказавшуюся одновременно границей их тел. Московское искусство вообще не чувствительно к границам тела в их грубой и буквальной телесности, поскольку они совпадают с социальными поставленными извне. Телу остается только то, что не занято телесностью коммунальной: искусство, можно сказать, снимает с себя всякую ответственность за тело, поскольку на границы его влиять не может, и углубляется в перипетии сознания (инфантильность московского концептуализма — тема, требующая особого разговора). Крис Верден провоцирует границы тела (в другом перформансе он дал прострелить себе руку) на фоне маниакального уважения к индивидуальному пространству и обостренного ощущения личной ответственности, существующим в западной культуре, провоцируя при этом и границы искусства. Русский же художник был вынужденно занят иного рода трансгрессиями — мысленными. Первые опыты соц-арта по идентификации себя с советскими художниками были такого рода «непристойными» трансгрессивными опытами, чем-то вроде тайной умственной проституции. Соц-артисты помыслили себе нечто запретное, и этот мысленный жест был для культуры важнее телесного. Многие из мотивов Кабакова или КД впервые встречаются у обэриутов — всем памятно совершенно кабаковское исчезновение тела хармсовского героя из сундука, когда жизнь победила смерть неизвестным способом, или «я вынул из головы шар», напоминающее об акциях КД. Обэриуты, предтечи диссидентской романтики внутренней свободы, были первыми в советской культуре, кто почувствовал новую корпоративность меньшинства, могущую полагаться лишь на собственные тайные мысли — единственное прибежище личности, и в этом обретающую свое «коллективное тело» — сплоченность сознания. При этом сознание получило иллюзию абсолютной свободы, тоталитарную претензию, которая так сегодня очевидна в московском концептуальном искусстве. Московский концептуализм и был родом «умственной свободы», мыслительного упражнения, виртуального путешествия — анекдотический лозунг «задернуть занавески, как будто едем» — был взят на вооружение не только официальным искусством. Индивидуальное сознание, собственно, заняло место индивидуального тела в качестве единственной и последней аутентичности — из этой контаминации искусство не может выпутаться до сих пор. Андрей Монастырский, указывая в своем «Пальце» (1978) на самого себя, делает тело объектом, но прокламирует все же абсолютный приоритет мышления, в акте которого только и обретается целостность. В другой известной работе Монастырского — «Дышу и слышу» (1981) — автор, который слышит свое дыхание со стороны, возвращает себе то, что только что отдал, и, следовательно, возводит свой герметический опыт в квадрат. «Слышать себя со стороны» пограничный, галлюцинаторный, почти премортальный опыт, превосходящий даже «видение себя со стороны» по преломлению тела в сознание. Из спонтанной невнятности дыхание тут превращается в своего рода язык коммуникации — однако это язык-для-себя, обращенный только к своему владельцу. Искусство 70-х — 80-х не знает лучшего памятника герметизму. Здесь была осуществлена утопия неофициальной культуры — спрятать тело в уме, воспарить над телом, как делает это герой Кастанеды, представляя себе свою голову в виде летящей птицы. Читайте новые и старые номера «Художественного журнала» на новом сайте издания.