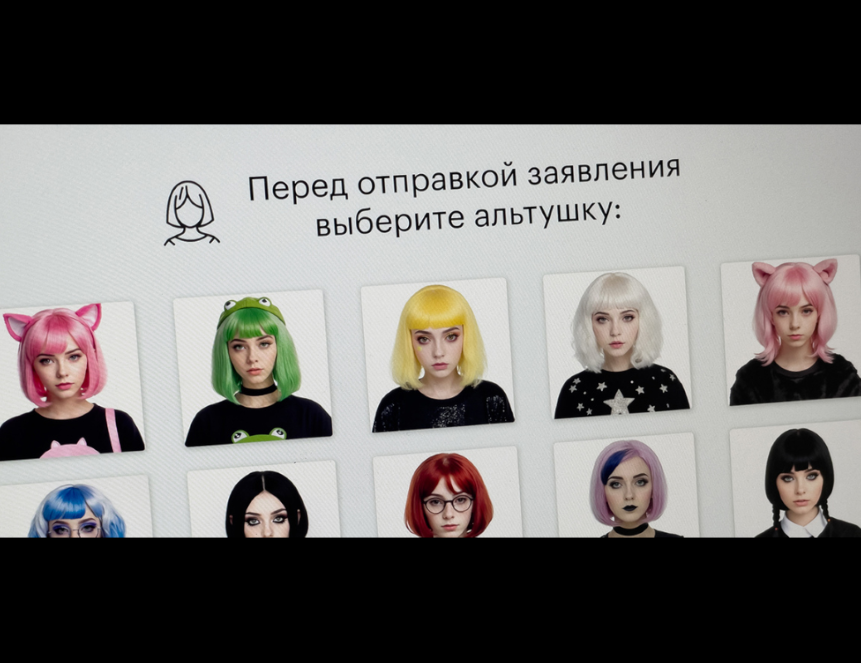

Чиназес, альтушка и скуф — уже давно знакомые и даже устаревшие слова. Они появляются не просто так, первая причина — закономерное развитие языка, вторая — интернет. Доцент школы лингвистики НИУ ВШЭ и специалист в области цифровых гуманитарных исследований, один из разработчиков нескольких корпусов в НКРЯ (Национальном корпусе русского языка) Борис Орехов рассказывает, зачем люди придумывают специальные термины для лысеющих мужчин, почему социальные сети стали помощниками лингвистов и как отвечать тем, кто считает русский язык безвозвратно испорченным новыми словечками.
Что такое сленг и зачем он нужен?
Наука помогает отслеживать, что язык постоянно эволюционирует. Еще с советских времен лингвисты отслеживали динамику языка в газетах — там лучше всего были видны изменения. Но теперь появились социальные сети. В них люди говорят на языке новых трендов и сразу записывают это в электронном виде. А лингвисты могут наблюдать за этим «в прямом эфире», не тратя время на поиск и сбор контента, и анализировать все материалы не вручную, а с помощью инструментов Национального корпуса русского языка. Это платформа, на которой собраны тексты на русском языке, общее количество слов в них — более 2 млрд. Тексты в Национальном корпусе русского языка проходят через несколько этапов автоматической разметки, то есть приписывания им и словам в них грамматических, семантических и множества других признаков. Одна из программ для такой разметки — MyStem от «Яндекса». Она умеет анализировать слова и возвращать грамматическую информацию о них (число, род, падеж, часть речи и так далее), даже если таких форм пока еще нет в словарях. После этого разметка MyStem обогащается при помощи нейросетевых инструментов, разработанных в Корпусе. Именно благодаря разметке лингвисты могут уточнять детали поиска, сравнивать тексты по различным параметрам и исследовать эволюцию русского языка. Интересно, что изначально разработать систему поиска Корпусу помогал Яндекс. Теперь же НКРЯ помогает компании в развитии ее сервисов. Результатом такого сотрудничества стало сохранение и приумножение знаний о русском языке и их доступность для всех.
Сленг — это не общепринятые слова, которые широко распространены. Обычно они приходят из какого-то закрытого сообщества типа профессионального или поколенческого. Сленг проявляет себя по двум причинам: для ощущения свежести языка и чувства причастности к какой-то социальной группе. Когда сленговое выражение начинают использовать везде, его уникальность теряется и все про него забывают.
Например, в 60-70-х годах подростки говорили «шнурки в стакане», чтобы сообщить друзьям, что родители (шнурки) дома (в стакане) — квартира несвободна и тусоваться не получится. Потом про эту формулировку узнали все, стали использовать даже в печати и оно потеряло свою новизну, а в итоге постепенно забылось. Это происходит и с другими выражениями: они живут, пока выполняют свою функцию.
Жаргон, диалект и сленг — в чем разница?
Ученые-лингвисты разделяют жаргон, диалект и сленг. К первому относят то, что использует специальная группа людей. Например, профессиональная: программисты, инженеры, журналисты, полицейские. Последние говорят «возбУждено дело», хотя мы в повседневной жизни привыкли к другому ударению. Бывает, что некоторые слова из жаргона широко расходятся в языке и ими активно пользуются все: например, баг на жаргоне программистов означает ошибку. Но иногда мы можем так сказать и в жизни. Еще пример — геймеры говорят «лут» в обычной жизни, хотя это определение для внутриигровых наград или вещей для выживания. Поэтому для них вполне нормально лутать ягоды или продукты в магазине. Это сленг.
Есть диалекты — разновидность языка, на котором говорят люди, живущие на определенной территории. Обычно это небольшие города или деревни. Часто это старые варианты языка, которые воспринимаются остальными как что-то неправильное и испорченное. Но на деле это просто исторические формы, которые не дожили до современности, они позволяют увидеть стадии развития. На наш современный русский они не влияют, потому что существуют в отдаленных местах и постепенно уходят из обихода.
Еще одно интересное явление — региолекты. Это те слова, которые отлично себя чувствуют в городской среде, но не по всей стране, а только в регионах. Носители могут даже не знать, что они особенные. Это становится понятно только в разговоре с человеком из другого города: когда он вообще не понимает, о чем речь. Часто это самые обычные слова, которые используют везде, просто в регионах у них появляются дополнительные значения. Например, слово «сад» в Поволжье — дача. Случается это не только со словами, но и с их образованием. Например, мы используем приставку «по-», чтобы сказать «помыть голову». И очень удивляемся, когда кто-то говорит «намыть голову». А сказать такое могут, например, в Нижнем Новгороде, и там это звучит совершенно нормально.
Откуда берется сленг?
Отследить происхождение сленга сложно, в какой-то момент мы просто замечаем, что слово активно используют. Откуда оно взялось — не всегда понятно. Можно посмотреть историю такого слова в НКРЯ. Например, в нем хорошо видна история слов «распил» и «откат». В XIX веке они уже были, но использовались как жаргонизмы в профессиональной сфере. Откат — то, что происходит с артиллерийским орудием после выстрела. Распил — слово для выражения идеи распиливания, например, дерева. Но сейчас мы имеем в виду только коррупционные смыслы. Когда они появились? В письменных текстах примерно в 2000 году — это видно в Газетном корпусе (устно могли использоваться и раньше). Эти слова заключали в кавычки, то есть показывали, что тут есть какая-то метафора. А в 2001 даже кавычки исчезли, значит, слово стало привычным. Откуда это значение появилось, непонятно — кто-то придумал остроумную метафору и ее подхватили.
Есть слова, которые вообще не имеют значения, это довольно любопытный эффект в языке. Например, «чиназес». Все его используют в разных контекстах, но что оно значит на самом деле — никто не знает. Людям хочется новизны, мы же с детства читаем одни и те же книжки, используем одни и те же конструкции — и это ужасно скучно. Хочется играть со словами, создавать что-то необычное, странное или бессмысленное. Существовать это слово будет, скорее всего, года два. А потом пропадет, потому что его заменит новое.
Таким словом без значения является «менеджер». Например, некоторые говорят «менеджер по клинингу». Это уборщик, но мы называем его менеджером: и звучит красивее, и стереотипы, связанные с работой уборщика, не вспоминаются.
Может ли сленг испортить язык?
Многие замечают, что тексты становятся короче, и связывают эту тенденцию с интернетом. Мы сокращаем даже слова: например, используем «спс» вместо «спасибо» или «пон» вместо «понятно». Но так делали всегда: люди просто берегут силы и время и интернет ни в чем не виноват. А в лингвистике для этого даже специальный термин есть — экономия речевых усилий.
А еще изменилось соотношение официального и неофициального общения. Те же письма в XI веке старались писать без сокращений, потому что вольности на письме воспринимались как неуважение. Например, если бы сын в письме отцу использовал «спс» вместо «благодарю», родитель мог подумать, что с ребенком что-то случилось. Сейчас в этом «спс» близкие не увидят опасного подтекста.
Использование сленга и сокращения многими воспринимаются как искажение языка, его обеднение. Но это не так, язык просто развивается. И благодаря социальным медиа мы лучше видим, что с ним происходит, какие слова и выражения появляются, а какие уходят. Важно понимать два момента: язык состоит не только из слов и его невозможно испортить.
Язык адаптируется к новым сленговым словам и так проявляет свою жизненную силу. Допустим, еще в советское время появилось слово «шуз». Оно не осталось в первоначальной английской форме, а превратилось в русское: к нему добавились окончания русских падежей (шузы, шузов). Зачем это слово было нужно, если уже существовали слова «ботинки», «обувь»? Дело в том, что в языке нет абсолютных синонимов. Все слова различаются компонентами смысла. Если появляется слово «шузы» наряду со словом «ботинки», значит оно несет в себе другой оттенок значения. Например, «шузы» — это не просто ботинки, а крутые ботинки, скорее всего, импортные.
Язык беднеет, когда теряет носителей, а не когда вбирает в себя новые слова. И в этом смысле интернет, наоборот, помогает. Если раньше человек уезжал в другую страну, то он фактически терял возможность говорить на своем языке. Теперь можно общаться через интернет с теми, кто остался на родине. И это особенно важно для языков, на которых говорит не более нескольких десятков тысяч человек — для тех, которым важно выжить. А на русском говорят сотни миллионов человек, пока ему ничего не грозит. Его очень трудно обогатить, как и обеднить — для этого нужно отказаться от какой-нибудь области его применения.
Борис Орехов, доцент школы лингвистики НИУ ВШЭ, один из разработчиков Газетного, Акцентологического, Поэтического корпуса, корпусов «Социальные сети» и «Русская классика» в НКРЯ